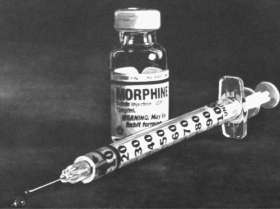Еще 6 тысяч лет назад древние шумеры уже использовали мак, чтобы «прогнать печаль». Активное вещество мака, которое успокаивает боль и вызывает состояние эйфории, — это морфий.
Когда он был выделен химическим способом, то сразу стал «чудо лекарством». Но, к сожалению, у принимавших его, развивается болезненное пристрастие к наркотику – наркомания. Понять, почему это происходит, удалось совсем недавно.
Чего не предусмотрел Господь Бог
Животным впрыскивали «меченый» морфий: каждая его молекула была связана с молекулой радиоактивного вещества, благодаря чему присутствие наркотика с помощью специальных приборов можно было определить в любом участке тела. Мозг рассекали на части и получали фотографии каждой части, где «обнаруживалась» радиоактивность. Таким образом были определены зоны, «предпочтительные» к действию морфия.
Дальше надо было узнать, как ведут себя морфий и морфиноподобные вещества, если они приносят «сигнал» к нервным клеткам. Эрик Симон, профессор Нью-Йоркского университета, обнаружил на мембранах мозговых клеток специфические морфинные рецепторы. Таким образом было получено доказательство связи между наркотиком и клетками некоторых участков мозга – теми самыми, которые были отмечены предшествующим впрыскиванием радиоактивного морфия. Симон, а вслед за ним вскоре и другие смогли составить анатомическую карту морфинных рецепторов в головном и спинном мозгу животных и человека.
И сразу же возник вопрос: если нервная система животных и человека обладает такими рецепторами, то каково их назначение? Ведь трудно предположить, что они были предусмотрены эволюцией – или господом богом, — чтобы позволить нам получать удовольствие от морфия! А значит, в мозгу должны существовать морфиноподобные вещества.
В этом направлении и пошли дальнейшие исследования. Было известно, что морфий действует на кишечник морской свинки, в сущности, на нервные клетки, расположенные на стенках кишечника. Когда часть кишечника, помещенную в раствор жидкости, стимулировали электрическим током, то это вызывало ее сокращения. Если же в раствор добавляли морфий, то сокращения ослабевали.
Однако если добавляли в раствор «антагонисты» морфия ( синтезированные молекулы, в которых произведены небольшие изменения по сравнению с обычной молекулой наркотика), то наблюдалось усиление сокращений. Тот факт, что известный «антагонист» уничтожал действие изучаемого наркотика, доказывал, что он занимал место этого наркотика. Следовательно, изучаемый продукт представлял собой наркотик, молекула которого имеет форму, сходную с формой молекулы морфия. И именно такие же результаты показал опыт с частичками мозга.
Оставалось произвести химический анализ этих частичек и выделить нужное вещество.
Удалось выделить даже не одно, а два вещества. Их структура сходна со структурой молекулы морфия, но в некоторых местах к молекулам прикреплены цепочки аминокислот. Эти вещества называются энкефалинами.
Была получена анатомическая карта зон, где находятся энкефалины: это зоны морфинных рецепторов. Оказалось даже возможным установить, что они заключены в маленьких пузырьках на уровне окончания нервных волокон, там, где осуществляется связь с другой нервной клеткой. Следовательно, энкефалины сравнимы со всеми другими известными нейропередатчиками ( ацетилхолином, норадреналином и т.д.).
Энкефалины играют некоторую роль в механизме болевых ощущений, очень вероятно их участие в механизме контроля состояния тревоги, кроме того, как подозревают ученые, они оказывают влияние на поведение человека.
Пузырьки энкефалинов – и морфинные рецепторы – сконцентрированы в нервных зонах, которые играют основную роль в механизме боли.
Во-первых, это желатинозное ядро (ядро межпозвонкового диска) спинного мозга и продолговатого мозга. Его клетки находятся в контакте со всеми нервными волокнами, которые передают болевые сигналы от всех участков тела и головы. Конечно, «болевые» волокна равным образом контактируют с клетками, расположенными поблизости, которые, в свою очередь, связаны нервными волокнами с мозгом, где «воспринимается» боль.
Передатчик этой системы, так называемое вещество «Р», в настоящее время тщательно изучается. Похоже, что клетки желатинозного ядра содержат энкефалины и что их волокна модулируют, то есть частично тормозят действие вещества «Р» (или тормозят его передачу, действуя на окончания волокон, приносящих с периферии «послания» боли, или тормозят его деполяризующее действие непосредственно на клетки, волокна которых связаны с мозгом).
Во-вторых, это центральное серое вещество среднего мозга. Это зона особенной важности как для механизма проявления боли, так и для проявления эмоций. Больным, которые страдают сильными болями, не поддающимися воздействию обычных обезболивающих средств, вживляют в эту область тончайшие электроды и, направляя очень слабые электрические импульсы, добиваются успокоения боли в течение многих часов подряд. Между тем, если такому больному давать «антагонист» морфия (который, следовательно, будет являться и «антагонистом» энкефалина), то электрический ток не окажет никакого успокаивающего действия в течение всего времени, которое требуется, чтобы метаболизировать (то есть разрушить) «антагонист».
Так, если электрический ток производит обезболивающий эффект, то значит, что в этой области происходит высвобождение энкефалинов. Можно предположить, что в случае неснимающихся болей болевая стимуляция оказывается слишком сильной, чтобы естественный механизм испускания энкефалинов оказался достаточным для ее контроля; необходимо, следовательно, дополнительное возбуждение содержащих энкефалины клеток с помощью электрического тока.
В-третьих, это внутренняя часть и переднее ядро таламуса. Речь идет об области, которая подвергается электрической стимуляции в опытах над животными с целью достичь эффекта «наказания». Эта область становится активной во время болевой стимуляции, но она не является частью анатомического пути боли. Впрочем, «наказание» и не является, собственно говоря, болью (животное не кричит, его зрачки не расширяются и т.д.), при «наказании» включается реакция «избавления» (животное старается избежать условий, при которых оно получило такую стимуляцию).
Здесь мы подходим к эмоциональному аспекту боли, то есть к процессам малоизученным и очень сложным, в результате которых «послание», пришедшее от поврежденной зоны в каком-либо месте тела, воспринимается как чувство боли. Эта часть таламуса взаимодействует с передней долей коры головного мозга, в результате чего и рождается ощущение страдания.
Чувство тревоги, которое, без сомнения, контролируется энкефалинами, есть эмоциональное состояние, которое в норме присуще в определенной степени каждому человеку: это витальная (жизненная) тревога. Физиологически это состояние есть результат определенной «бдительности» организма, которая позволяет нам в каждый момент оказаться лицом к лицу с любыми случайностями. Животные во время бодрствования также находятся настороже.
Между тем это состояние, которое обуславливает нашу готовность встретить множество разнообразных эмоций повседневной жизни, готовность быть привлеченными или отталкиваемыми теми, кто нас окружает, зависит от функционирования главной части мозга – лимбического мозга.
Это очень «древняя» часть, так как достаточно похожая структура имеется у низших животных и даже у рыб. Она управляет механизмом «бдительности»: по его сигналу витальная тревога перерастает в состояние беспокойства, истинной тревоги, все чувства и качества концентрируются – более или менее болезненно – у источника тревоги.
Каникулы души
У человека этот источник тревоги может быть воображаемым – тогда приходится говорить о патологической тревожности. Если механизм выдает противоположный сигнал, возникает приятное безразличие, вид удовольствия, вызванного отсутствием витальной тревоги. Именно такую форму эйфории вызывает опиум.
Слово «эйфория» здесь, может быть, не совсем уместно, так как речь идет скорее об ощущении свободного «парения» в пространстве, где нет ни принуждения, даже физиологического, ни каких бы то ни было поводов остерегаться чего-либо – это «большие каникулы». И вот именно в этой, наиболее важной формации лимбического мозга обнаружено наибольшее скопление пузырьков энкефалина и морфинных рецепторов!
Функционирование этой системы еще плохо изучено, однако есть основания полагать, что энкефалинам там отведено контролирующее действие: чем сильнее начинает возрастать напряжение тревоги, тем больше высвобождается энкефалинов. Энкефалины воздействуют на энергетическую составляющую напряжения, но не на «качество» душевной жизни (которая зависит от коры головного мозга, где – напомним – нет ни энкефалинов, ни морфинных рецепторов). Так что психическая активность сохраняется, но просто она менее «эмоциональна».
Одна из зон, наиболее богатая энкефалинами, есть часть мозга, также «древняя», которая называется бледным телом. Это часть обширной системы ядер и волокон, которую называют полосатой, или экстрапирамидной системой. Некоторые повреждения в определенных точках этой системы вызывают болезни типа болезни Паркинсона, характеризующейся, помимо прочего, оцепенением, спазмами, несогласованностью между жестами и мыслями. Кроме того, эта «полосатая» система, вероятно, играет определенную роль в развитии некоторых психозов, во всяком случае, медикаменты, с успехом применяемые при такого рода заболеваниях, оказывают воздействие главным образом на нее.
Подобные разрозненные факты позволяют предполагать, что «полосатая» система играет важную роль в организации поведения, но в этой области очень много неясного. Тем не менее чрезвычайно важно отметить, что энкефалины, по всей вероятности, играют роль модуляторов во всех этих процессах.
Что может извлечь для себя ценного терапия из всех этих обследований? Прежде всего большие надежды в отношении лечения боли, тревоги и, может быть, психозов. Пока только можно говорить о надеждах, так как прямое использование энкефалинов сегодня еще невозможно: как все нейропередатчики, они разрушаются на несколько вторичных фракций. Правда, получена одна устойчивая форма, но ее впрыскивание животным, кажется, вызывает сильное возбуждение.
Зато все эти работы позволяют серьезно углубиться в понимание интимных процессов, протекающих под действием морфиноподобных веществ, и интенсифицируют поиски надежного средства, которое бы обладало, как морфий, способностью успокаивать боль и снимать тревогу, но не имело бы побочных действий, связанных с приемом морфия: нарушений сердечной и дыхательной функций, пищеварительного тракта и, самое главное, не вызывало бы наркомании.
Жаклин РЕНО
«СЬЯНС Э ВИ», ПАРИЖ.
За рубежом, №34, 1979 г.
 Добавить сайт в избранное
Добавить сайт в избранное